ХИТРОВО А.
Поездка на Прилепскую ярмарку и в монастыри Св. Архангел и Тресковец
(Из путевых записок.)
I.
Пробыв шесть месяцев в Битоле, с нетерпением ожидал я, когда мне наконец удастся сделать поездку на север, где так близко начинается мир уже совершенно славянский, без всякой примеси греков и влахов. Но занятия и некоторые поездки в южные части Македонии долго не позволяли мне выполнить давнишнее намерение. Таким образом настало 1-е августа и открытие ярмарки в Прилепе.
Ярмарка, или панагир, в Прилепе бывает ежегодно, как здесь говорят, на малую Богородицу (Успение Пресвятой Богородицы 15-го августа) и продолжается около месяца. Ярмарка эта, после Сересской, значительнейшая во всей Македонии. Она имеет предметом обмен произведений Албании на разные товары привозимые из Вены, Триеста и [208] Константинополя. Здесь вся средняя и отчасти северная Албания запасается всем необходимым на целый год. В Турции поражает вас прежде всего совершенное отсутствие местных, самых простых мануфактурных произведений. Без Европы житель Турции, и в особенности турок, решительно не может существовать; его платье, вся домашняя утварь, предметы крайней необходимости, — все везется из Европы и преимущественно из Австрии. Не знаю что случилось бы с Турцией без Австрии, и с Австрией без Турции. Все те живописные наряды, мужские и женские, которыми мы любуемся и которые привыкли называть восточными, шьются из материй большею частью немецкого происхождения. Сколько разных вещей, которые иногда привозятся путешественниками с Востока и показываются ими в Европе за редкость, — произведения, быть может, того самого европейского города, где любуются на них как на диковинку! Заметьте при том, что в Турцию везется все, что оказывается никуда не годным в Европе. В Австрии, говорят, есть целые фабрики работающие исключительно на Турцию, и те самые предметы австрийского приготовления, которые продаются в Турции весьма дешево, в самой Австрии нельзя иногда купить ни за какие деньги, именно потому что на них не нашлось бы покупателей. Вы встречаете албанца в живописном наряде ярких цветов, с золотым шитьем: выверните его куртку, и вы верно найдете где-нибудь на изнанке штемпель с изображением австрийского орла и фирмы фабрики. Вам подают кофе в маленькой, особенной формы, чашке, называемой финджана, какой вы верно не встречали нигде кроме Турции; оберните чашку, и вы увидите какое-нибудь немецкое имя, с дополнением in Wien. Решительно, можно сказать, все что поражает ваш непривычный глаз странностью формы, яркостью красок, совершенно особенным местным отпечатком, есть почти всегда произведение той же Европы, умеющей тж хорошо подделываться под все вкусы и обычаи. Даже наша матушка Тула не забывает наделять своими произведениями безрукую Оттоманскую империю. Садясь поджавши ноги за турецкий обеденный стол, где ножи и вилки еще не вошли в обычай, вы исполняете благой обычай мытья рук, что делается более по привычке, чем по чистоплотности. [209] С этою целью подают обыкновенно весьма причудливые, особенной, совершенно восточной, формы, медные умывальники. Сколько раз приходилось мне читать на них: Москвин, Тула, такого-то года! Сколько встречал я соотечественников в медных подсвечниках, кастрюлях и пр.! Но зачем же все это перепродается через двадцать рук, и не было ли бы выгоднее нашим торговцам прямо производить эту торговлю? А уж потребителям верно пришлось бы платить дешевле.
Вот этих-то разноплеменных предметов привозится большое количество на Прилепскую ярмарку для распродажи во внутренние провинции. Прилеп, обыкновенно мертвый, ничтожный городишко, без всякого торгового значения, совершенно перерождается на время панагиря. Тогда съезжаются сюда купцы из всей Румелии, Македонии и Албании. Огромное чарши (гостиный двор), обыкновенно пустое и запертое, отворяет на это время свои незатейливые магазины и оживляется самым пестрым движением. Но надо заметить, что собственно прилепские жители принимают незначительное участие в ярмарочной торговле; крестьяне из окрестных сел приносят на ярмарку свои простые произведения; вся же торговля преимущественно находится в руках битольских и велесских купцов.
Уже недели за две до открытия ярмарки, дорога из Битоли в Прилеп представляет какой-то праздничный вид и оживляется необычным движением. Везде по пути раскидываются холщевые палатки, где предлагаются путешественникам сочные арбузы и дыни, тут же растущие на бахчах. Толпа нищих располагается посредине дороги, под открытым небом, на целые две недели. Беспрестанно встречаются целые партии перевозимых товаров, то нагруженных на неуклюжие тяжелые колы (телеги), запряженные буйволами, то навьюченных на коней. Кераджи (извозчики) плетутся пешком, нехотя понукая своих ленивых пегасов. Забтие (местные телохранители из арнаутов), в красивых костюмах, с целым арсеналом за поясом, сопровождают эти товарные поезда, то красуясь на лихих конях, то грациозно выступая с длинным перекинутым за плечами албанским ружьем. Костюм албанца, небрежно болтающиеся разрезные рукава его шитой куртки и белая пышная фустанелла (юбка) придает особенную грацию его [210] походке. Вcя фигура албанца являет какую-то странную смесь воинственной отваги и в то же время естественной, грациозной томности. Посмотрите на этого дикаря с смугло-бледным лицом, с орлиным носом, с выразительными страстными глазами, разрезанными наподобие миндалин, и с опущенными длинными, черными ресницами, с красивым станом и небольшими жилистыми руками безукоризненной формы и сравните его с нашими северными, обрюзглыми, золотушными физиономиями... Перед вами тип человека во всей его первобытной породистой чистоте. Как бойко загнулись эти тонкие черные усы, какая отвага дышит во всей этой живописной фигуре! Из-за широкого кушака, перехватывающего тонкую талию, выглядывают серебряная ручка и богатые ножны кривого ятагана вместе с длинными албанскими пистолетами. Ему иногда бывает нечего есть, но он положит последнюю копейку за богатое оружие, и за то как гордо будет носить его! На лице его написано, что жизнь для него последнее дело, лишь был бы простор и дикая свобода. Но вот, в самом конце товарного поезда, важно подвигается под большим белым зонтиком толстая фигура, одетая в несколько халатов и, несмотря на жару, закутанная в какую-то странной формы шубку с короткими рукавами, открытую опереди и явно имеющую своим назначением не столько согревать владельца, сколько внушать уважение к его жирной особе. Фигура эта обыкновенно помещается, как воробей на крыше, на ужасно высоком, громадном седле, совершенно раздавливающем небольшую, чрезвычайно смирную лошадку, которая выступает некрасивым рахваном (иноходью). Эта почтенная особа, разумеется, владелец транспорта, богатый купец, христианин. Мало утешительного представляют эти богатые здешние христиане. В то время как в простом народе живут ещё предание прошедшего и, быть может, тайные надежды на лучшие будущие дни, для этих богачей и родину, и семейную честь, и даже достоинство человека, все заменила любовь к деньгам. Долгий гнет турецкого ига страшно унизил эти натуры; все душевные стремления их направлены к приобретению богатства; все они низкопоклонничают перед высокомерными турками. Вместе с чувством народности, они утратили и самую чистоту типа; теперь они являют какую-то [211] обабившуюся, изнеженную натуру, неспособную ни на какое занятие, кроме сидения поджавши ноги в душной лавке, считания грязных турецких денег и надувания покупателя. Впрочем, эти занятия еще из самых невинных. А то они берут на откуп разные государственные налоги, и тогда-то являются они злейшими врагами сельского христианского народонаселения, из которого вышли сами. Купцы эти большею частью куцо-влахи. Но произнося это строгое суждение над богатым торговым сословием, я должен сказать, что и здесь все чаще и чаще встречаются счастливые исключения. В нынешнем поколении начинают проявляться иные лучшие чувства и благородные надежды.
Таким образом, все битольские купцы, один за другим, отправляются с товарами в путь, не всегда безопасный. Мало-помалу вся Битоля, паша со всем меджлисом (административным советом), и кади, и муфти, и чиновники всевозможных наименований, и консулы, и все европейцы, все отправляется в Прилеп, и Битоля, на время панагиря, совершенно пустеет. Впрочем, битольское общество наезжает в Прилеп лишь на несколько дней, в самый развал; во все же время ярмарки остаются там одни торговцы.
Я выехал из Битоли 8-го августа. В это время дорога была пустынна; все товары давно уже были доставлены на место, а разъезжаться еще не начинали. Из Битоли в Прилеп три пути: два кратчайших, прямо перерезывающих равнину, и один дальнейший, огибающий ее у подошвы гор. Летом все три довольно удобны; зимой же сообщение совершается только дальнейшею дорогой, по причине образующихся в равнине болот. Впрочем, разница в расстоянии незначительная; кратчайшими путями до Прилепа около восьми часов, а дальнейшим путем считается девять часов (около 40 верст), то есть собственно часов шесть обыкновенной ходьбы. Мы избрали этот последний, более торный путь, и выехав рано утром, могли рассчитывать к полудню добраться в Прилеп.
День был страшно знойный, солнце жгло невыносимо с безоблачного неба, воздух был раскален, над землей стоял синий пар. Прилепская дорога одна из самых грустных и пустынных, по каким когда-либо случалось мне проезжать. На всем пути нет ни одного хана (постоялого двора); только в получасе от Битоли, несколько в стороне [212] от дороги, одно близь другого, находятся села Оризари, Търн Карамани а потом, на полпути, село Тополчаны, близь реки Черной. Сзади осталась Битоля у подножия угрюмого и величественного Перистерия; влево бесплодные, выгоревшие холмообразные отрасли его; впереди и справа расстилается широкая равнина древней Пелагонии и далеко на горизонте высятся строгие профили гор Бабунской планины с остроконечным конусом Златоверха. Во всей этой картине есть что-то торжественно-печальное, что-то траурное. Посреди этой мертвой местности, мысль невольно уносится в темную даль минувшего, невольно восстает в памяти целая вереница событий, которых страна эта была свидетельницею. Чего, чего не видала классическая почва Македонии? Эта безжизненная картина как будто говорит вам, что страна эта жила много и утомлена жизнью... Это декорация давно разыгранных трагедий...
После трех часов утомительного пути под жгучим солнцем, достигли мы села Тополчаны при реке Черной. Черная берет начало недалеко от Крчева, на границах Гегалыка, из Турьянской планины, протекает чрез всю равнину Пелагонии, потом поворачивает круто на север, и несколько южнее Веллесы, вливается в Вардар. В средине Пелагонийской равнины, между Прилепом и Битолей, Черная, по принятии нескольких горных потоков, разливается в непроходимые большую часть года болота. Болота эти год от году затопляют окрестную местность. Уже несколько деревень пострадали от этого медленно, но постоянно прибывающего наводнения, и жители их принуждены были перебраться на новые места, откуда наводнение, вероятно, не замедлит снова прогнать их. Вся равнина Пелагонии имеет весьма слабый естественный склон; вся она находится почти на одинаково-высоком уровне (более 2.000 фут. над уровнем моря).
Село Тополчаны лежит влево от дороги, в небольшой долине, образуемой отраслями Перистерия. Здесь та же бесплодность, тот же красноватый цвет выжженных солнцем холмов. Село состоит из сорока одного дома все христианских. Небольшая каменная белая церковь новейшей постройки стоит одиноко, несколько в стороне от седа. Церковь эта, четырехугольная, с едва заметными маленькими окнами, низкая, как бы раздавленная под огромною [213] аспидною крышей, ничем не отличается от других христианских церквей, выстроенных в здешней местности в последнее время. Отсутствие креста свидетельствует о веротерпимости новой, прогрессивной Турции.
Отсюда, после переезда через реку Черную вброд, у развалившегося деревянного моста, который чинить конечно никому не придет в голову, дорога поворачивает несколько вправо. Потом следует перевал чрез одинокую цепь невысоких холмов, лишенных всякой растительности, и снова перед усталыми взорами открывается та же однообразная равнина Пелагонии. Но отсюда уже можно различить вдали, будто в тумане, город Прилеп с осеняющею его горой и зубчатыми развалинами замка Марка Кралевича, от которого и самая гора получила название. Вот несколько влево большое седо Стары-Варош, место древнего Прилепа, и над ним высоко в горах белое здание — монастырь Святого Архангела. Вот еще левее, и еще выше, — другое белое здание, древний монастырь Тресковец под самою вершиной остроконечного Златоверха, и далее опять нескончаемые профили лиловых гор, выдвигающихся одна из-за другой и сливающихся с горизонтом, будто волны окаменелого моря.
Проехав еще час, мы встретили близь дороги одинокую чешме (колодезь), сошли с коней и с наслаждением напились холодной воды. Житель юга понимает всю цену воды, — а с какими стараниями он добывает ее! На турецких дорогах усталый странник, лишенный всякого другого удобства, находит по крайней мере на каждом часу пути, где только позволяет природа, студеный фонтан и какую-нибудь чашу для питья. Обыкновенно фонтаны эти сложены из белого камня, с двумя медными кранами, из которых немолчно льется вода в большую каменную чашу. Этот обычай строить общественные колодцы при дорогах относится к весьма давним временам. В Салониках существуют еще несколько колодцев времен греческих и римских, совершенно такого же устройства как теперешние. Колодезь, близь которого мы остановились, окружен полем, оставленным под паром, и все оно было покрыто, как снегом, белыми гелиотропами; их острым благоуханием был пропитан полуденный жгучий воздух. Отсюда до самого Прилепа (3 часа — 12 верст) дорога [214] идет все время под гору, но склон едва ощутителен. Кони наши, будто почуяв близость стойла и ячменя, стали горячиться и проситься вперед. Мы пустились на рысях, и скоро были у въезда в город.
Прилеп лежит в котловине, образуемой расступившимися в этом месте полукругом горами Бабунской планины. Котловина эта продолжается далее на север узкою долиной, и все место называется Дервентом (дервент по-турецки — долина, но многие долины получили это название в собственное имя). Из Дервентской долины выходит горный поток Кондрис, протекающий через город небольшою речкой, везде переходимою вброд, и впадающий несколько выше в реку Черную. Пейзаж ближайшей окрестности Прилепа не имеет в себе ничего теплого и мягкого, и отличается какою-то дикою красотой. Горы, окружающие Прилеп, являют вид совершенно бесплодной пустыни. Вообще вся Бабунская планина, не так высокая, поражает совершенно особенною формацией; земли почта нигде не видно; везде глыбы голой плиты, беспорядочно наброшенные одни на другие, и гранитные остроконечные вершины. Над самым Прилепом возвышается ломаный профиль огромной каменной массы с развалинами древнего замка на вершине, называемой Марком Кралевичем, и еще выше, в перспективе, конусообразная вершина Златоверха, до того острая, что издали можно было бы принять ее скорее за развалину какой-нибудь башни чем за вершину горы. Со стороны равнины Прилеп окружен ровным бесплодным пустырем, поросшим жиденькою травой, сквозь которую везде просвечивает песчаный грунт. Картину дополняли зеленые палатки двух рот низама (регулярного войска), пришедших из Битоли, для содержания караулов на время панагиря и расположенных лагерем при въезде в город.
Самый город ничем не отличается от множества подобных ему турецких городов. Те же маленькие домики из бежевого кирпича и грязи, те же узкие, грязные и кривые улицы и те же джамии (магометанские храмы) с свинцовыми куполами и тонкими, как иглы, белыми минаретами, из которых несколько непременно развалившихся. Дополните все это редкими, одиноко там и сям растущими высокими пирамидальными тополями, и вы получите вернейшую картину любого турецкого города. [215]
В Прилепе считается от 1.500 до 2.000 домов, вмещающих в себе народонаселение от 6.500 до 7.000 душ; христиане вдвое многочисленнее турок и почти все болгары, за исключением нескольких семейств куцо-влахов. Во всем же Прилепском или по-турецки Перлепе-каза (уезде) 160 сел, большею частью христианских, и 40.000 жителей. (Мужеского пола. Приведенная численность народонаселения взята из нофуза — турецкой переписи для рекрутского набора, и вереи — подати, платимой христианами взамен рекрутской повинности. Цифры нофуза сомнительны.) Здесь числительное отношение мусульман к христианам то же что и в городе. В Прилепе только одна христианская церковь, постройка новейшего времени. Древностей никаких в ней нет; церковь довольно обширна, во бедна, и в особенности ощущается недостаток в богослужебных книгах и облачении. В Прилепе две школы, при которых три учителя, и из них только один славянский. Вообще прилепское народонаселение мало заинтересовано гражданскою жизнью и делом воспитания; оно, во всех отношениях, далеко отстало от других христианских общин в Турции.
Во всем Прилепе отыщется три-четыре порядочных дома, а остальное все мазанки. В одном из этих прилепских дворцов была отведена мне квартира, при самом везде в город, что весьма нас обрадовало, потому что избавило от езды по отвратительной мостовой, на которой лошадь беспрестанно скользит, и беспрестанно рискуешь сломить себе шею. Когда мы приехали, хозяев не оказалось дома; все они были на ярмарке. Нам отворила дверь какая-то старуха, и провела нас в приготовленные комнаты. Я был счастлив, что хотя [бы] на этот раз избавился от обычного церемониального приема. Комната моя оказалась чиста и удобна, и я уже намеревался воспользоваться счастливым одиночеством и, до осмотра города, отдохнуть на приветливом диване после утомительного пути. Но непродолжительна была моя радость. Вскоре прибежал хозяин дома и начал рассыпаться в бесконечных извинениях, что не успел встретить нас, и в утомительных расспросах, не утомлены ли мы с дороги, каково ваше здоровье, хорошо ли нам будет в приготовленных комнатах и пр. и пр. Вслед за тем явился мудир (градоначальник), потом [216] наместник митрополита, потом еще какие-то священники, потом чербаджи (городская аристократия), потом разные битольские посетители ярмарки, и вскоре временное мое помещение совершенно наполнилось народом. Началось обычное подавание сластей на огромном подносе с двумя беспрестанно наполняющимися стаканами воды и чашек неизбежного кофе.
Трудно представить себе что-либо утомительнее этих обычных на Востоке церемониальных приемов. Каждый из посетителей входит, нагибаясь, протягивает вам руку (причем пожатия руки не бывает, руки только как-то неловко прикасаются одна к другой с вытянутыми пальцами), и спешит присесть на кончик дивана, поджавши ноги. Потом, когда все уселись и вооружились чашками кофе, а вы терпением, начинаются, с прижатием правой руки то к груди, то ко лбу, бесконечные приветствия: добро дошли, добро нашли, како сте? добро, харно, шекюр и проч. Потом следуют направо чрез драгомана те же комплименты по-турецки, потом налево опять чрез драгомана по-гречески. Потом является какой-нибудь даскал (школьный учитель) и, принимая театральную позу, начинает вам держать длинное красноречивое приветствие по-гречески, стараясь поболее испестрить свою речь древнегреческими оборотами и словами. Знакомство с древнегреческим языком почитается вершиною человеческих познаний. Вы не понимаете ни слова, но должны, выпуча глаза, терпеливо прослушать местного Демосфена, и когда он кончит, обратиться к нему чрез драгомана с приличным ответом, в котором необходимо упомянуть о прелестях эллинизма и о разных доблестях, украшавших и украшающих древних и нынешних эллинов. Путешествуя по Турции, вы делаетесь мучеником приторной любезности и нескончаемых церемоний. Вы устали с дороги, вы с отрадою мечтаете об отдыхе, не тут-то было: вас осыпают любезностями, на которые вам приходится отвечать опять любезностями; но вы одни против всех, и на поверку выходит, что вы еще более утомлены от этих нескончаемых комплиментов, чем от целого дня, проведенного на коне.
Долго продолжался этот босоногий раут, — я говорю босоногий, потому что каждый из посетителей, входя к вам в [217] комнату, оставляет свои башмаки при входе и является перед вашею особой не иначе, как в одних чулках. Здесь войти в комнату обутым было бы такою же невежливостью, как у нас войти, не сняв шапку, впрочем иностранцам прощается несоблюдение этого приличия, а турки нового покроя и те из христиан, которые считают себя пообразованнее, прибегают, в этом случае, к маленькой хитрости, именно к калошам, которые они носят во всякое время года, как бы ни было сухо, и оставляют, вместо башмаков, при входе в комнату. Наконец, после двухчасового мучения дорогие мои посетители, кажется, сжалились надо мною; комната моя начала мало-помалу пустеть, и когда дверь затворилась за последним гостем, я вздохнул свободно. Но времени до вечера оставалось уже не так много, и мы поспешили в чарши, где сосредоточена ярмарочная суматоха.
Чарши находится в центре города; оно выстроено частными лицами, которым принесло в нынешнем году около 60 тысяч пиастров (3.500 р. с.) дохода, несмотря на то, что торговля была, говорят, несравненно хуже других годов. Чарши заключает в себе 240 лавок (Это собственно в чарши. Кроме того, на ярмарке до 8 лавок в городе и ярмарочных шатров.) из которых было занято в нынешнем году 180. Это объясняют конкуренцией ярмарки в Неврокопе, происходящей в одно время с прилепскою; говорят, неврокопские торговцы намеренно распустили слух, будто бы они выхлопотали султанский фирман (приказ), в силу которого время прилепской ярмарки отодвигается одним месяцем; некоторые купцы поверили этому слуху и не пошли вовремя в Прилеп. Здесь кстати рассказать, каким образом производится торговля на прилепской ярмарке. Розничная торговля тут весьма незначительна в сравнении с торговлею оптовой. Приезжающие купцы продают свои товары оптом другим мелким торговцам, которые распродают их в течении года по другим городам и по селам. При этом мелкие торговцы не вносят наличных денег; деньги выплачиваются только через год на следующую ярмарку. Такие сделки совершаются без всяких явочных обязательств и основываются исключительно на личном доверии. Не только здесь [218] на ярмарке, но и вообще в Турции значительной торговли на наличные деньги почти не существует. Основываясь на таком широком кредите, при теперешнем положении Турции, торговля, естественно, должна была значительно пострадать. Оптовый купец может рассчитывать только на успех, с которым удастся розничному торговцу перепродать закупленные у него в кредит товары. Но при теперешней неблагонадежности дорог, вследствие грабежей, при слабости и бездействии правительства, при ощущаемом повсюду недостатке денег, и наконец при плохом положении турецких финансов, успех этот весьма сомнителен; а поэтому, весьма натурально, кредит падает, и вместе с тем является застой в торговле. В случае, если торговец захочет прекратить свои дела, вы можете себе представить, с какими затруднениями сопряжен теперь возврат денег за распущенные в долг товары, какая является запутанность в ликвидации, и сколько возникает нескончаемых процессов в стране, где нет ни суда, ни расправы. Естественно, все эти обстоятельства должны были отозваться и на торговых оборотах прилепской ярмарки.
Прилепское чарши, как и все чарши в Турции, состоит из лабиринта крытых галерей, по сторонам которых тянутся одна за другою маленькие лавки. Лавки эти выше общего уровня галереи, но зато тут нет ни дверей, ни окон; весь фасад, обращенный внутрь — открытый. На перекрестках длинных галерей устроены каменные бассейны с водой. Но не спешите представлять себе роскошное восточное здание и сравнивать его с теми рисунками константинопольского базара, которые вам верно случалось видеть. Рисунки эти так же мало похожи на прилепское чарши, как и на тот базар, который они изображают. Чарши это, как и все в Турции, выстроено кое-как, и скорее всего может быть сравнено, по способу стройки, с нашими масленичными балаганами. Длинные крытые галереи темны и душны; дурно построенные бассейны пропускают воду, которая, разливаясь по неровной каменной мостовой, делает ее до того скользкою, что любопытный, отправляющийся полюбоваться восточными диковинками немецкого приготовления, рискует на каждом шагу упасть в смрадный ручей, бегущий по самой средине галереи.
Когда мы пришли, вход в чарши был запружен самою [219] пестрою разнохарактерною толпой. Всякая национальность, всякое сословие в том пестром сброде, который зовется Турецкою империей, отличается своим собственным наследственным костюмом. Здесь можно было встретить всевозможные образчики. Тут вместе толпились и важные белобородые старые турки в огромных чалмах, и оборванные хамалы (носильщики), и не очень нарядные турецкие солдаты, и снующие, как привидения, закрытые турецкие жены, и общипанные европейцы, и пышные разукрашенные золотом арнауты, и красивые статные дебряне в своих траурных нарядах. Костюм дебрян — длинный кафтан из белого сукна, с узкими рукавами, поверх которого накинуто что-то вроде короткого черного ментика, обшитого черною же длинною бахромой; за широким кушаком непременно ятаган и пара пистолетов. Есть странное предание об этом наряде. Говорят, что дебряне и часть жителей верхней Албании стали носить его по смерти Георгия Кастриота, в знак траура по славном вожде, и с тех пор наряд этот сохранился безо всяких изменений. Вот грек, в бесконечно широких, черных коленкоровых шароварах, в невообразимо узкой куртке и в чудовищном красном фесе с огромною синею кистью. А вот и еврей, тот же еврей, которого вы встретите и у нас в каком-нибудь местечке, и на германских водах, и в Испании, и в Иерусалиме. Поезжайте от одного полюса к другому, и везде вам будет попадаться эта поджарая фигура, с жиденькою бородкой, с пейсиками, и с бойкими черными глазами. Костюм может изменяться, но тип вечно тот же. И везде эта фигура, где бы вы ее ни встретили, будет суетиться, картавя кричать то на испорченно-немецком, то на испорченно-испанском языках, и всегда или что-нибудь покупать, иди что-нибудь продавать. А вот в стороне кружок поселян болгар; их можно узнать по пестрому, красному с белым, полотенцу, обвивающему их фес в виде чалмы. Костюм здешних болгар состоит из белых узких штиблет, обвитых ременными завязками башмаков из буйволовой кожи, весьма напоминающих древние сандалии; на штиблеты падает несколькими складками белая холщевая юбка; потом следует темно-синий жилет, вышитый красными узорами, с узкими рукавами, перетянутый в талии широким кушаком с [220] металлическими застежками и, наконец, синий же, открытый, длиннополый кафтан без рукавов, с стоячим воротником и выложенный красною тесьмой. Ничего не может быть страннее и безобразнее наряда болгарской женщины. Перед вами движется как будто бы оживившаяся вешалка, на которую беспорядочно нагружен целый гардероб. Тут всевозможные кафтаны и сарафаны, с рукавами и без рукавов, надетые один на другой. Спереди висит неуклюжий передник из толстого холста, тяжело вышитый разноцветными шерстями и нитками. Сзади болтается, вплетенный в волосы, тяжелый, аршина в полтора длины, пук черных веревок, оканчивающийся стеклянными побрякушками. Все это довершается неимоверно громадным кушаком с огромными серебряными застежками. На шее, кроме множества ожерелий, висят в несколько рядов монеты, — целое приданое, если девушка, — весь капитал мужа, если женщина. Головной убор не менее странен: это какой-то красный треугольник, торчащий боком на лбу; сверх треугольника белый платок, весьма не пригоже завязанный под подбородком. В этом наряде самая молоденькая женщина кажется старухой.
Вся эта пестрая толпа суетилась, толкалась и кричала при входе в чарши. Тут же, при входе, выстроен маленький балаган, единственное незатейливое местное увеселение. Увеселение это, изобретение одного битольского купца-армянина, в нынешнем году в первый раз расточало перед прилепскою публикой свои невиданные диковинки. Находчивый армянин собрал в этом балагане все имевшиеся по разным битольским лавкам стереоскопы, и расставив их в виде панорамы, показывал народу за известную плату, за что и собрал порядочные деньги. Тут являлись в самом поэтическом беспорядке: возле Наполеона изображение Том-Пуса; рядом с Гарибальди и папой — Юлия Пастрана; возле вида Исакиевской площади — картина похищения Европы. В одном углу этого незатейливого святилища искусств, несколько образованных турок в немецком платье на турецкий лад жадно впились глазами в три стереоскопа с эротическими картинками. Все образование турка заключается в ношении полуевропейского платья, в страсти к ракии (водке) и к циническим разговорам. В балагане завывал отвратительный местный оркестр; при входе [221] незатейливый паяц с лисьим хвостом на голове зазывал публику, отпуская ей разные шутки и страшно кривляясь.
Трудно было пробраться чрез эту сплошную массу народа, заслонявшую вход в чарши; но, благодаря не всегда вежливой расторопности кавазов, мы кое-как превозмогли все трудности, что, разумеется, не обошлось без весьма красноречивых понуканий со стороны наших телохранителей. В Турции без кулачных аргументов нельзя сделать ни шагу, и аргументы эти до того общеприняты, что решительно никого не удивляют. В чарши опять та же снующая взад и вперед толпа; то же суетливое движение, и тот же оглушающий крик и гам. Мы вошли или, лучше сказать, вскарабкались в одну из лавок к знакомому купцу. Сейчас же явился кафеджи с подвижным таганчиком, с чашками и ассортиментом маленьких кофейников. Вооружившись чубуками, мы уселись на устланный ковром пол лавки, и прихлебывая ароматический кофе, стали смотреть на происходившее вокруг нас движение. Пестрая толпа с говором и шумом бродила взад и вперед по длинным галереям. Всюду сновали оглушительные развозчики со всевозможными сластями, до которых так падки жители Востока. Купцы, сидя поджавши ноги в своих клетках и кряхтя под шубами, несмотря на знойный летний день и невыносимую духоту спертого в крытых галереях воздуха, громко торговались с покупателями на всевозможных языках. Странно звучало непривычному уху это смешение языков, где в самом хаотическом беспорядке раздавались со всех сторон слова турецкие, греческие, болгарские, куцо-влахские и странные носовые звуки албанских наречий. Право, можно было вообразить себя при новом Вавилонском столпотворении. Беспрестанно мелькали мимо нас суетливые таланджи (комиссионеры аукционного торга), оглушавшие вас своим неистовым криком. Аукционы в Турции происходят совсем иначе чем у нас; владелец продаваемой вещи поручает ее таланджи, назначая цену, таланджи бегает взад и вперед по базару, показывая вещь и во все горло объявляя постепенно возвышающуюся цену. Эти таланджи исполняют свое дело с невообразимою быстротой. Неожиданно налетает на вас эта фигура, как подвижная лавка обвешанная разными вещами, сует вам что-нибудь в лицо, и оглушает вас [222] неистовым криком.... Вы не успели еще опомниться и еле выговорши, что прибавляете несколько пар, как тот же голос уже раздается в другом конце базара, громко возвещая новую цену. Когда, таким образом, вещь погуляла некоторое время по базару, и никто уже ничего не прибавляет, таланджи приносит ее к владельцу. Если окажется, что последняя цена не удовлетворяет владельца, он преспокойно берет вещь обратно; если же, напротив, он согласен на продажу, то покупщик уже не имеет права отказаться от предложенной цены, и таланджи, несмотря на давку и суету, мгновенно отыщет его в толпе. Огромное количество продаваемых с аукциона в последнее время турецких вещей свидетельствует о жалком положении беднеющего с каждым днем турецкого народонаселения. Турки, как будто накануне переезда с одной квартиры на другую, продают теперь все, самые дорогие для них предметы, как например, наследственное оружие, старинное серебро и женские украшения. Мне случалось видеть на аукционах кокосовые чашки, приносимые дервишами из Мекки, будто святыня, и теперь продаваемые за несколько пиастров.
Трудно себе представить весь этот шум, все это оживленное пестрое движение и толкотню, в узких и длинных галереях. Но это еще аристократическое, так сказать, отделение чарши, занятое преимущественно битольскими купцами и заваленное европейскими товарами на турецкий лад. Здесь продаются всевозможные шелковые, шерстяные и в особенности бумажные ткани, редко хороших достоинств, но за то всегда самых ярких цветов. Затем следуют: всевозможная посуда, фарфор, хрусталь, туалетные вещи, ленты, европейская обувь и пр. и пр., — все привезенное из Триеста, Вены и Константинополя.
В других отделениях чарши толпа еще многочисленнее, шум и говор еще оглушительнее. Здесь лавки заняты приехавшими с разных концов купцами всевозможных наций, и здесь можно встретить товары действительно восточные. Вот лавки с турецкою обувью и готовыми красивыми местными костюмами. Вот далее болгарские лавки с прекрасными шаркиойскими (пиротскими) коврами. Еще далее — несколько лавок, принадлежащих купцам мирдитам (арнаутам-католикам) из Скодры; в этих лавках, кроме венецианских и триестских товаров, особенного внимания [223] заслуживают прекрасные ткани из сырого шелка скодрского изделия. Потом следует целый ряд оружейных лавок, потом лавки серебряных дел мастеров, потом меняльные лавки, разумеется, принадлежащие евреям, от которых мне удалось купить несколько хороших экземпляров древних греческих и римских монет; потом седельники, медники и пр. и пр. Здесь же, в самом темном закоулке, помещалась и книжная лавка, незатейливый рассадник просвещения, принадлежащая филиппопольскому купцу. Кроме церковных книг русской печати, сербских и болгарских песенников, нескольких болгарских исторических книг, изданных в Белграде и Константинополе, и множества брошюр, я нашел тут довольно значительное число детских учебных книг на болгарском языке. Дай Бог успеха этим первым попыткам!
Не стану далее обременять читателя уже и без того слишком скучным описанием панагиря. Скажу только, что, глядя на эту разноплеменную толпу торговцев, съехавшихся со всего света, грустно мне было не встретить здесь ни одного русского купца, не найти ни одной русской лавки, тогда как нашим купцам было бы так легко торговать здесь, благодаря сходству языков и единству веры с большинством здешнего народонаселения. Неужели это только недостаток духа предприимчивости в нашем торговом сословии? Но ведь торговцы наши бросаются же с жадностью на далекий восток, к берегам Амура и границам Китая: отчего же ни один из них не попробовал завести торговых сношений с Европейскою Турцией, где сношения эта могли бы быть так полезны для России во многих отношениях? Что торговля в Турции выгодна, это доказывается беспрестанными примерами разбогатевших здесь торговлею европейцев. Что же пугает наших торговцев? Удаление?... Но ведь верно из Швейцарии не ближе в Турцию, чем из России, а между тем вот подряд несколько лавок в Прилепском чарши, занятых агентством давно учредившегося в Салониках швейцарского торгового дома Бургард, Райтар и К°. Дом этот вывозит из Швейцарии множество всякого рода фабричных произведений, находящих в Турции отличный сбыт; он имеет во всей Румелии, Македонии и Албании свои агентства. Какая оживленная деятельность кипит в этих европейских [224] лавках! Местные мелкие торговцы нарасхват разбирают привезенный хлам, перья нескольких оборотливых приказчиков так и летают по листам торговых книг... Конечно, при нынешнем финансовом положении Турции, торговые сношения с нею, быть может не совсем безопасны, но европейцы предупредили нас здесь уже давно, еще в ту пору, когда эти сношения были очень выгодны....
На другой день, после посещения церкви и шкоды и визита мудиру, уже ничего более не оставалось осматривать в Прилепе. Но нас ожидали новые картины и новые впечатления в монастырях Святых Архангелов и в Тресковце. Любезный турецкий градоначальник не согласился отпустить меня иначе, как в сопровождении двух забтие, по причине распространившихся во всей окрестности разбоев.
II.
Мы выбрались из Прилепа около полудня и, после получасового пути, достигли села Стары-Варош, где стоял древний Прилеп. Дорога от города все время пролегает у подошвы высокой и крутой каменной массы, увенчанной развалинами старого замка, и поднимается в гору до самого села. Налево, по краю оврага, служившего руслом высохшему горному потоку, тянутся табачные плантации. Окрестности Прилепа производят довольно значительное количество табаку низкого достоинства.
Древнее село Стары-Варош лежит у подошвы горы на отлогом ее склоне. Здесь живет трудолюбивою жизнью двухтысячное православное славянское народонаселение, верное своим преданиям. Хлебопашество, овцеводство и некоторые простые домашние промыслы, вот занятия и источники существования Вароша. Но в то время, как мелочные торговые расчеты сделались единственною целью жизни богатых прилепских соседей, бедные жители Старого Вароша свято сохраняют древние обычаи и нравы, и, по-своему, горячо сочувствуют славянской старине. Когда-то Старый Варош вмещал в себе многочисленное зажиточное народонаселение, но рука времени и турецкое владычество сделали свое дело... Грустное впечатление производят эти живописные развалины семидесяти православных храмов, когда-то осенявших Старый Варош. Теперь только в трех из этих древних [225] церквей совершается богослужение, и то непостоянно, кое-как, по разрозненным листам старых церковных книг. Но вряд ли литургия, совершаемая в прилепской церкви греческим священником на языке, незнакомом народу, более угодна Богу, чем простая молитва неученых варошан в старом полуразвалившемся храме. Вся здешняя местность полна памятниками древней славянской жизни. Народ смотрит с благоговением на эти развалины, постоянно напоминающие ему былое и послужившие темою не одной незатейливой легенде и простой народной песне. К сожалению, недостаток времени не позволил мне осмотреть подробно эти интересные развалины.
От Старого Вароша мы повернули вправо, и начали подниматься по вымощенной дороге в виде извивающейся лестницы с широкими наклонными ступенями, до того крутой, что приходилось держаться за гриву лошади, чтобы не сползти чрез заднюю луку. По сторонам дороги стоят кое-где одинокие, громадные, старинных форм гранитные скалы, на которых там и сям видны большие древние иконы, нарисованные на диком камне и до сих пор прекрасно сохранившиеся. Эти гигантские фигуры в древних одеяниях, словно выдвигающиеся из серого гранита среди этой дикой природы, придают совершенно фантастический характер всей этой странной декорации. Впереди, в конце утомительного подъема, виднеются приветливые, словно улыбающиеся, новые выбеленные стены монастыря Св. Архангела (Св. Архистратига Михаила). Кругом и выше над обителью опять тот же дикий мир и те же голые, наваленные одна на другую гранитные массы, и еще выше, почти вертикально над самым монастырем, словно воздушное здание, зубчатые стены древнего замка.
При входе нас встретили с выражениями непритворной радости старые мои знакомые, варошский коджа-баши (старшина), монастырские сборщики и священник, заменяющий игумена. Начались обычные приветствия, но какая разница от тех приторностей, которые пришлось мне вытерпеть в Прилепе. Убогая обитель в первый раз видела далекого русского гостя, и чистосердечная радость добрых людей не находила выражений. Нас повели по недостроенной еще лестнице в светлую комнату, из которой взорам нашим открылся бесподобный вид на дикую окрестность, на [226] Старый Варош с его семьюдесятью развалинами, на всю равнину Пелагонии и на далекие профили лиловых гор, утопавшие в знойном полуденном небе. Явилось местное вино, виноград и неизбежный кофе; завязался откровенный, дружеский разговор. Долгий гнет турецкого ига сделал здешних христиан в высшей степени скрытными и подозрительными; нескоро добьетесь вы откровенности от здешнего простолюдина, но за то, если раз успеете внушить к себе доверие, чистосердечным рассказам его не будет конца.
Монастырь Св. Архангел только что отстроен в нынешнем году, на месте древней разрушенной обители, иждивением благочестивых жителей Старого Вароша. Некоторые строения еще недостроены, но ктиторы неутомимо заботятся об окончании богоугодной постройки, воздвигающейся на их трудовую копейку. При монастыре только один светский священник, простой добрый старичок, еле умеющий разбирать церковную грамоту и находящийся на жаловании у Варошской общины. Община управляет всеми монастырскими доходами (весьма ничтожными); но к сожалению, митрополит начинает уже оспаривать у нее это право и собирается, кажется, назначить игумена. Вот участь всех здешних обителей: они воздвигаются богоугодным усердием беднейших христиан для того чтобы сделаться потом доходною статьей высшего греческого духовенства.
Весь монастырь состоит из церкви и небольшого помещения для священника, служителей и богомольцев. Над монастырскими воротами возвышается небольшая колокольня, ожидающая колоколов. Храм весьма необширен, но светел и довольно красив; он отличается от других церквей местности красивою высокою открытою трапезой. При входе на стене изображены: с одной стороны Вукашин, с другой Марко Кралевич. Незатейливая монастырская живопись — произведение местного художника, убитого недавно разбойниками между Прилепом и Старым Варошем и оставившего иконостас неоконченным. Монастырь нуждается во всем; сосуды оловянные, облачений нет, даже нет необходимых церковных книг. Все богатство монастыря составляет теперь недавно им полученное красивое евангелие, — пожертвование из России. Как гордятся благочестивые варошане этим драгоценным евангелием, и с каким благоговением вспоминаются на литургии имена далеких и незнакомых жертвователей! [227]
Жители Вароша рассказывают, что древняя обитель, на месте которой воздвигся новый монастырь, существовала тысячу лет тому назад; но теперь от нее не осталось никаких следов. Вся местность, окружающая Прилеп, полна преданиями о Марке Кралевиче. С каждым памятником старины здесь связывают воспоминания о любимом полу-мифическом герое болгарского народа. Вот легенда, рассказанная мне жителями Вароша, в которой имя Марко Кралевича связано с преданием о монастыре Св. Архангела:
«Богаче и лепше монастыря Св. Архангела не было в целом свете; собирались люди из далеких стран полюбоваться этою святою обителью. Храм был сложен из драгоценных мраморов и покрыт широким куполом из чистого серебра, опиравшимся на толстые, золотые колонны. Давно хотелось туркам попользоваться богатствами монастырскими и разрушить драгоценный храм. Но Краль Марко, сидя в высокой своей куле (крепости), зорко сторожил святыню христианскую. Вот подсылают раз турки одного чуфуша (жида), именем Лева, поразведать, как бы им легче пробраться к воротам монастырским. Но монастырский страж, Улогав, заметив Леву, бродившего вокруг монастыря, побежал в град предупредить Кралевича Марка. Кралевич сидел в это время за трапезою с славным воеводой своим и любимцем Янкулом. Заслышав недобрые вести, он посылает немедленно Янкула расправиться с Левом. Настигши чуфута, Янкул втащил его на высокий утес и бросил оттуда в бездонную пропасть».
Пробыв часа два в монастыре, мы отправились, в сопровождении коджа-баши, сборщиков и целой свиты кавазов, забтие и поселян, на Марка Кралевича. Мне хотелось посмотреть вблизи на развалины древнего замка. Восхождение на эту каменную гору чрезвычайно затруднительно. Прокарабкавшись с четверть часа руками и ногами по почти отвесной голой скале, мы достигли, измученные, до значительной покатой площади, заваленной громадными массами гранита. Здесь паслось стадо коз, живописно там и сям прилепившихся на скалах, или смело прыгавших чрез широкие расселины, иди спавших под жгучим солнцем над безднами. Не менее беззаботно сидел и пастух, взгромоздившись высоко над нашими головами на [228] одинокий камень, висящий над бездной, и наигрывая на дудке плачевную, беспрестанно прерывавшуюся мелодию. И мы присели тут отдохнуть, в прохладной тени наклоненного утеса. Но мы не прошли еще и половины пути. Отсюда начинается уже совершенно голая конусообразная гранитная масса, увенчанная развалинами замка. Нигде ни малейшей тропинки; дорогою служат широкие трещины гранита, по которым приходится прыгать, как по гигантским ступеням. Известие, что выше мы найдем воду, придало нам новые силы, и мы смело принялись опять за утомительную гимнастику, пока с помощью рук и ног достигли наконец, запыхавшиеся и покрытые потом, широкой бреши в первой крепостной ограде.
При нашем появлении из-под камней с шумом вырвался выводок горных красных куропаток (кеклиц), теперешних обитателей этой воздушной руины. Обширные стены замка, извиваясь, тянутся в несколько рядов по краям широкой, неровной вершины горы, то спускаясь в глубокие овраги, то всползая на вершины. Эти толстые стены, сложенные из мелкого кирпича, связывают несколько угловых башен разных форм и величин. Вся вершина полна развалинами; в самой средине ее возвышается над всеми другими одинокий конус с развалинами массивной круглой цитадели, соединявшейся с стенами посредством крытых ходов и подземелий. Все эти развалины еще очень хорошо сохранились, и по ним легко составить себе весь план этой, когда-то неприступной, крепости. Глядя на эти громадные постройки, удивляешься, как могли выполнить их тогдашние люди, и с какими трудностями должны быть ввозимы эти массы кирпича на едва-приступную каменную гору. Внутренность цитадели представляет совершенный лабиринт подземелий, крытых ходов, стен и башен, прилепленных к голому граниту и висящих над бездной. Все эти постройки носят отпечаток строгой, средневековой, военной архитектуры.
Множество легенд и преданий связано с замком Марка Кралевича. Воображение местных жителей населило этот немой памятник целым сказочным миром невидимой жизни. Существует поверье, что всякую ночь среди развалин раздается громкое ржание Шарца, любимого боевого коня Кралевича Марка. Спросите любого пастуха, каждый [229] будет вам клясться, что не раз сам слышал это ржание. Говорят, что каждую ночь невидимый конюх чистит скребницей этого вороного коня, и сам богатырь-хозяин кормит его просом; в доказательство приводят присутствие проса в одной из крепостных башен. Мы отправились в таинственную башню. Эта четырехугольная постройка явно служила когда-то хлебным амбаром. Проводники мои, в доказательство справедливости слов своих о загадочном коне, выскребли целую пригоршню проса из круглых дыр в стене, служивших, вероятно, гнездами давно сгнившим деревянным стропилам. Сохранилось ли это просо с тех пор, когда замок кипел еще боевою жизнью, или натаскали его потом в течении нескольких веков запустения пернатые его обитатели, — это решить мудрено, но, во всяком случае, его присутствие поддерживает в воображении местных жителей крепкую веру в целую вереницу таинственных легенд и поверий. Нужно слышать с каким убеждением рассказываются эти вымыслы народного воображения, как воодушевляется до красноречия самый простой человек, передавая эти длинные рассказы, убаюкивавшие его детство, где с наивными предрассудками связана история былого, народные воспоминания о давно минувшей славе и свободе… Что осталось теперь этому народу, все утратившему, кроме воспоминаний? Когда поселянин возвращается на отдых, после тяжелого рабочего дня, что усладит ему вечерний досуг, как не песня про Марка Кралевича иди Милоша Обиловича, заповедных его героев? Он отдохнет душою, хотя на минуту, в этом славном сказочном минувшем от ежедневных обид и оскорблений. С этими воспоминаниями связана в его воображении и православная его вера, которую он сохранил в чистоте, чрез столько веков преследований и гонений, и на поддержку которой он и теперь ежедневно жертвует трудовую свою деньгу, бессознательно приготовляя грядущие события... Бедный народ, скоро ли запоешь ты песни про новые события?...
Карабкаясь по камням и помогая друг другу, мы добрались до вершины цитадели. Что за картина открылась тут нашим взорам! Далеко под нашими ногами, в каменной долине, лежал как на ладони кипевший ярмарочною жизнью Прилеп. Далее расстилалась широкая равнина с извивающимися речками, с блестящими там и сям [230] видами болот и с утопающими вдали бесчисленными селами, как островами в море. Потом тянулись по горизонту бесконечные цепи прекрасных синих гор, которых профили, смягченные удалением, казалось, сливались с синевой прозрачного неба. Над нами вились два орла, то исчезая в вышине, то быстро спускаясь и описывая бесконечные круги гордым, плавным полетом. Какое странное чувство независимости овладевает душою, когда глядишь на землю с высоты! Словно крылья приросли, и не то хочется броситься вниз, не то улететь в пространство...
Мы спустились с горы по другую ее сторону в живописную долину между горами Марком Кралевичем и Златоверхом. Здесь ожидали нас кони наши, часть кавалькады и выехавшие к нам навстречу из Тресковца игумен и его люди. Распростившись с добрыми варошанами, мы сели на коней и пустились в дальнейший путь. Тресковецкий игумен на маленькой серенькой лошадке поехал во главе кавалькады, указывая нам дорогу.
III.
От развалин замка Марко Кралевича до монастыря Тресковца часа два с половиной или три пути. Дорога пролегает сначала близь подошвы гор. Опять Пелагонийская равнина; но здесь она уже не представляет той мертвенной бесплодности, как между Битолей и Прилепом. Горы со всех сторон сдвинулись довольно близко, и дорога незаметно поднимается все выше и выше. Слева, в равнине, расстилаются хорошо возделанные поля; там и сям виднеются многочисленные села, расположившиеся по течению реки Черной. Справа, по склону гор, лежат коврами зеленые пастбища, изрезанные, словно серебряными нитями, множеством быстрых горных потоков. Выше — каменные горы, где между редких сухих кустарников, побрякивая колокольчиками и весело прыгая по скалам, пасутся многочисленные стада овец и коз. Глядя на эту приветливую, словно улыбающуюся картину, невольно забываешь на минуту, что все это в Турции, забываешь, под какими тяжелыми условиями живет это несчастное христианское население, возделавшее эти просторные поля, от которых так мало достается бедному пахарю из всего добытого потом и кровью. [231]
Мы ехали равниною около часа; потом дорога круто повернула в узкое ущелье, между двух высоких каменных стен с торчащими отовсюду взъерошенными скалами. Декорация совершенно изменилась: путь становился все тягостнее и тягостнее; дорога уставлена большими камнями, и лошади пробирались между ними, круто поворачиваясь направо и налево; умные животные отлично исполняли свое дело, беспрестанно останавливаясь и осторожно выбирая место, куда поставить копыто. Но и эту дорогу мы скоро покинули, свернув на едва приметную тропинку, извивающуюся по крутой, почти отвесной горе, густо поросшей мелким дубняком и орешником. Наша длинная кавалькада, как стадо журавлей, начала описывать самые причудливые зигзаги: то вытягивалась она в длинную прямую линию, то до того изламывалась, что игумен на маленькой лошадке, ехавший во главе кавалькады, иногда приходился совсем рядом с сеисом (конюхом), на вьюке замыкавшем шествие. Подъем становился чрезвычайно утомителен для наших бедных коней; беспрестанно скользили они на голой плите, и на каждом изгибе тропинки приходилось объезжать бездонные пропасти. Окружающая местность представляла самую живописную картину. Со всех сторон из густой дубовой и ореховой зелени выдвигались гранитные массы, поросшие мохом и обвитые плющом; перед нами беспрестанно срывались испуганные птички, наполнявшие воздух громким чиликаньем; косвенные лучи заходящего солнца играли по макушкам скал, по листам густого кустарника и по монастырским кровлям, выдвигавшимся из-за неровностей горы, высоко над нашими головами. Вокруг нас, из темных ущелий быстро росли и расползались во все стороны вечерние тени, а громадный, каменный конус Златоверха словно висел в воздухе, весь облитый солнечным светом. Как легко и отрадно становилось в этом свежеющем воздухе! Вскоре стали долетать до нас из монастыря давно не слышанные нами звуки колокольного звона и частые ружейные выстрелы, приветствовавшие наше посещение. Как отрадно звучал нам этот колокольный звон, повторяемый перекатами горного эха, как торжественно нарушал он, среди этой дикой, очаровательной природы тишину прекрасного вечера!
Наконец добрались мы до большой наклонной плоскости, [232] поросшей редким буковым лесом, на которой, прижавшись к громадному Златоверху, столько веков стоят стены древней обители Тресковецкой. Здесь ожидали нас жители монастыря и сошедшиеся из окрестных сел поселяне. При появлении нашем раздались громкие приветствия и залп ружейных выстрелов. Испуганные кони встрепенулись и, фыркая, вспрыгнули на звонкие плиты монастырских ворот. Мы очутились среди широкого двора, расположенного террасами и обнесенного монастырскими зданиями, пред пятиглавым храмом, от которого так и веет стариною. На колокольне шел звон во все колокола...
Мы сошли с усталых лошадей и отправились прямо в церковь, где всенощная была уже на исходе. Тусклое мерцание лампад еле освещало темный, почерневший от времени иконостас. Народу было мало. Хор составляли несколько мальчиков под управлением престарелого священника; стройно звучали их свежие голоса под сводами древнего храма. Какое глубокое впечатление производили на нас эти, давно не слышанные нами, всенощные молитвы священника и клира на понятном нам языке церковнославянском!... И внезапно нахлынувшие воспоминания из собственной жизни, воспоминания о далекой России, и глубокое впечатление, производимое этим старым мрачным храмом, — все сливалось воедино, все высоко настраивало душу и располагало к молитве и благоговению.
По окончании всенощной игумен ввел меня в алтарь и указал на лежащее на престоле евангелие, переплетенное в лоснящийся, вытертый от времени малиновый бархат и украшенное массивным серебром и каменьями. Я раскрыл святую книгу, и на ее первой странице было напечатано следующее:
«Во славу человеколюбца единого, триипостасного Бога Отца и Сына и Св.Духа: напечатася в типографии царствующего великого града Москвы: повелением благочестивейшаго Государя нашего Царя и Великого Князя Петра Алексиевича всея Великия и Малыя и Белыя России Самодержца: при благороднейшем Государе нашем Цесаревиче и Великом Князе Алексии Петровиче: благословением же преосвященных архиереев между патриаршеством. В лето от сотворения мира … : от Рождества же по плоти Бога Слова …. (1703) индикта … месяца августа».
Между тем наступила ночь и осматривать монастырь в [233] подробностях было уже слишком поздно: пришлось отложить этот осмотр до следующего дня. Мы расположились на разостланных коврах в открытом киоске, заканчивающем с одной стороны широкую галерею, которая окружает по всей длине внутренний, обращенный на двор, фасад монастырских зданий. Здесь ожидал нас сытный обед, поданный, по восточному обычаю, на низеньком круглом столе. Игумен хотел нас угостить на славу, и бесчисленные блюда быстро сменялись одни другими, а между тем у нас завязался оживленный разговор. Игумен, два священника, его помощники, сопровождавший нас из Прилепа чорбаджи и еще несколько человек окружили нас и принялись рассказывать нам о своем незатейливом житье-бытье, о притеснениях турок и митрополита: все те же вечные варианты на ту же печальную, неистощимую тему, которые приходится выслушивать здесь всегда и повсеместно....
Я стал расспрашивать моих собеседников о монастыре и его примечательностях. В настоящее время древнего в монастыре Тресковце остался один только храм; все прочие строения были возведены в позднейшее время. Монахов нет, весь причет состоит из игумена, простого, далеко не ученого болгарина, которого все хвалят, и трех престарелых священников, совершающих требы по окрестным селам и поочередно служащих в монастырском храме. Самая же замечательная личность здесь — старый турок, каваз, разыгрывающий чуть ли не более важную роль чем сам игумен.
Этот каваз уже тридцать лет служит в монастыре и заведывает всем его хозяйством и даже управлением двумя небольшими чафтлыками (деревнями), до сих пор принадлежащими монастырю. Игумен-турок каждое утро усердно выметет церковь, приведет в ней все в порядок, заглянет в алтарь, отзвонит к заутрени, и пойдет себе творить свой турецкий намаз. Личность этого турка необходима в монастыре; без него монастырь был бы давным-давно разграблен разбойниками и турецкими чиновниками, которым никак не посмел бы противоречить христианин.
Доходы монастыря весьма ограничены. Из всех прежде принадлежавших ему недвижимых имений, он сохранил за собою только два чафтлыка; но и эта собственность ничем не обеспечена. Монастырю был дан когда-то султанский фирман, которым предоставлялись ему различные права и преимущества и подтверждалось за ним право владения [234] некоторою недвижимою собственностью; но фирман этот несколько лет тому назад был затерян, не то по оплошности, не то по злоупотреблению прежнего игумена, бывшего, быть может, орудием турецкой администрации. Теперь, в случае какого-либо спора, монастырь не мог бы ничем доказать права свои на владение ничтожною, уцелевшею еще за ним собственностью. Главный источник монастырского дохода составляет его храмовой праздник 8 сентября; но митрополит, архиепископ пелагонийский, приезжающий на это время в Тресковец, забирает в свою пользу часть сбора. На храмовой праздник, совпадающий с временем окончания Прилепской ярмарки, заезжают обыкновенно купцы на обратном пути из Прилепа, в особенности вилесские. Поселяне из окрестных сел также сходятся в монастырь, и тогда в продолжении нескольких дней в стенах внезапно оживляющейся древней обители кочует многочисленное христианское население. Но все это не доставляет значительных доходов, и монастырь все-таки беден и обременен долгами.
Не такою была Тресковецкая обитель в старину; это был замечательнейший монастырь во всей Македонии. Тресковецкая обитель заключала когда-то в стенах своих многочисленную монашествующую братию и обладала огромными богатствами. Мне показывали древнюю пергаменную книгу, всю исписанную именами прежних обитателей монастыря, давно отошедших к иной жизни. К сожалению, в этой книге не обозначены ни года, ни числа, ни светские звания иноков, записанных только под одним монашеским именем. В монастыре не сохранилось никаких верных сведений о времени его построения, и только одна грамота и несколько камней свидетельствуют о существовании его во времена Неманичей. Грамота эта — хрисовула царя Стефана (вероятно Дечанского), в силу которой монастырю Тресковцу даруются сербским государем разные населенные имения, мельницы и другие угодья. Тут встречается множество имен разных сел, до сих пор существующих, но, разумеется, уже давно не принадлежащих монастырю и сделавшихся собственностью разных турецких бегов. Хрисовула оканчивается следующим образом: [235]
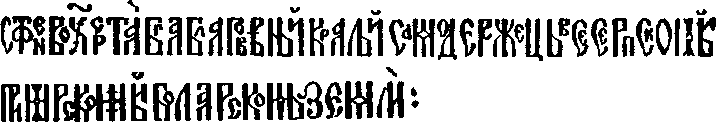
Ни числа, ни года нет. Я видел только древнюю копию с этой хрисовулы, с которой и списывал; оригинал же, равно как и две другие хрисовулы, были отправлены в нынешнем году в Сербию к князю Михаилу, пожелавшему видеть их.
Множество поверий и легенд сохранилось в народе о монастыре Тресковце и прилежащей к нему горе Златоверх. Местные жители рассказывают, что в окрестностях Тресковца умерщвлен последний Неманич. Это печальное событие сербской истории, которого театром, по историческим данным, была совсем иная местность. (Гильфердинг «Поездка по Старой Сербии, Боснии и Герцеговине».). Но и здесь жители указывают на вытекающую, в недальнем расстоянии от монастыря, речку Урошицу, как на место преступления, и уверяют, что тело царево было принесено в церковь Тресковецкую. О речке Урошице они рассказывают, что она вытекла из камня в минуту самого преступления. Вообще во всех исторических изустных преданиях, сохранившихся в окрестностях Прилепа, господствует ужасная запутанность; обозначения местностей чрезвычайно сбивчивы и противоречат одни другим, и исторический факт, переданный изустным преданием, смешивается с переиначенною передачею того же факта в народной песне. Таким образом, в рассказе об убиении младого Уроша действие происходит в одно и то же время и на Косовом поле, и в окрестностях Тресковца. Вероятно тождественность названий (Пр. Богородицы) двух различных храмов — Тресковецкого и того, где действительно положено тело убитого царя — было причиною этой запутанности. Приведу наивный рассказ одного крестьянина из окрестностей Прилепа, записанный мною сколь возможно близко со слов самого рассказчика. Рассказ этот может познакомить читателя с здешним наречием, составляющим уже переход от языка придунайско-болгарского к языку сербскому:
«Кога Волкашин царство држал от мали цар Уроша, [236] дете било мало, не можело да држи свое царство. Како се собрале крале у Косово, започнале совет начините да ие Урош на памет дошел, он да може свое царство држати. Краль Волкашин царство не му даваше, Марка тука не беше, ни кои не го да го суди нема. Допратили Марку да го зовут; у него били книге староставне, он может да каже, чие било царство. Кад дойде Марко у Косово поле; та извада книги староставни, а му каза да ие царство Урошево. Се разлюти Волкашин краль, испотегне ножу от кайша, да убие свога сина Марка. Марко биеже и у црковь побиеже. Он (Волкашин) силино удрио ножем у дирека; от нега крва проливаше, от небесе гласе доходяше: той да убил Божаго ангела. Тогай царство на Уроша дале, и за мало време постояло, на придагал Волкашин Уроша да излегне у поле широко, тегде сабля; му пресече глава. Зва се место гди погинал Урош, ту изишла вода велика и данас се зове Урошица».(Когда Волкашин управлял царством за малолетнего царя Уроша, ребенок был слишком мал, и не мог сам управлять царством. Тогда собрались короли на Косовом поле и стали держать совет о том, что [236] Урош пришел в возраст и может сам управлять государством. Краль Волкашин царства не уступал ему, Марка там не было, некому было их рассудить. Позвали за Марком, у него находились староставные книги, и он мог сказать, кому должно принадлежать царство. Когда Марко пришел на Косово поле и достал староставные книги, он сказал, что царство Урошево. Разгневался Волкашин краль и выхватил нож из-за кушака, чтоб убить своего сына Марка. Марко убежал и скрылся в церковь. Волкашин сильно ударил ножом в колонну, из которой полилась кровь и послышался голос с неба: «Он убил Божьего ангела». Тогда царство отдали Урошу, но в скором времени Волкашин пригласил его выйти в широкое поле и, вынув саблю, отрубил ему голову. Место, где погиб Урош, известно; там вытекла из камня река, которая до сих пор называется Урошица.)
Построение монастыря Пресвятой Богородицы местные жители относят к весьма отдаленной эпохе, хотя и не обозначают ее никаким годом и никаким событием. Они уверяют, что в древности монастырь назывался другим именем и только впоследствии был назван Тресковцем. И тут народное воображение нашло богатую пищу, и по этому поводу создало множество легенд, где исторические факты смешиваются с вымыслами фантазии.
Местные жители рассказывают, что какой-то царь (по их словам, болгарский) приказал поставить на макушку остроконечной горы огромное яблоко из чистого золота, осыпанное драгоценными камнями, которое было видно со всех концов земли и так блестело, что, откуда ни посмотришь, казалось в небе стоят два солнца: одно солнце [237] Божие, другое солнце славного царя болгарского, а от того и самая гора получила название Златоверх. Кто был этот царь и что потом сталось с драгоценным яблоком, легенда не говорит; но, перескочив, вероятно, чрез длинную эпоху, она продолжается рассказом о том, как царь (император) Андроник (но который из четырех?) будто бы короновался в монастыре Пр. Богородицы, и одарил его самым щедрым образом. Далее о переименовании монастыря Тресковцем легенда рассказывает следующее:
«В то время дочь одного христианского царя, Кала Мария (прекрасная Мария), вышла замуж за турецкого султана. Прожив с ним в замужестве несколько лет и прижив ему много детей, Мария приходит раз к своему супругу и говорит ему: «Мы жили с тобой счастливо многие годы, Бог наградил нас детьми, теперь прошу тебя, отпусти меня; я хочу окончить жизнь в монастыре, хочу потрудиться за веру свою (сакам да радем за своя-то вера)». Отпускает султан свою прекрасную супругу, оделяет ее богатством и дает ей несметную стражу. Вот приходит Кала Мария с многочисленною свитой и войском к монастырю Пр. Богородицы. Калугери (монахи), завидя такое множество турок, испугались, затворили ворота и не впустили Марию в монастырь. Царица много се разлютила (прогневалась, приказала навести свои топы (пушки) на святую обитель, разгромила стены и убила всех иноков. Потом она отправилась на святую гору Афонскую, (По афонскому уставу женщины на святую гору не допускаются.) где и скончалась, предоставив все свои богатства афонским монастырям. Между тем, в монастыре Пресв. Богородицы тела убитых иноков остались без погребения. На запах трупов явилось какое-то чудовище, — Гущер, которое поело тела и поселилось в самом алтаре храма. Тридцать шесть лет жило чудовище в храме и никого не пускало в окрестности Златоверха; всякий, кто отваживался, делался жертвою Гущера. Наконец Господь смилостивился над несчастною страной, приведенною в ужас присутствием чудовища; молния ударила в монастырь и убила Гущера в самом алтаре (от небесе пала равия и погубила Гущера), причем стены монастырские треснули на четыре части. Монастырь был вскоре возобновлен и назван — Тресковцем в память этого события. [238]
Далее легенда переходит в длинное повествование о заслугах и богатырских подвигах народного героя, Марка Кралевича, сделавшегося защитником монастыря Пр. Богородицы против турок. Предание говорит, что имя Марка Кралевича было так страшно для турок, что и по смерти его они боялись войти в монастырь до тех пор, пока барабан бил в замке Марковом («до тогле турци у монастыр не влигле, докле биел тобум на ветер на куля Маркова; усетили турци да го нема Марка и посами се бояли тамо поити у ньегови двори»). Потом они взяли с собою Греков и «пошли у двори Маркови, попланили, что имало тамо. Напкум пошли на Богородицу, тамо нашли сви царски нишани и никоква письма от грка не нашли. Но Грци не драго му падло (не понравилось это грекам); сокупиле (собрали) книге староставне, ничто више онде не остало, — сопланиле у Св. Богородице све имание»...(Не говорится ли в приведенной легенде, под именем Кала Марии,
[239] о дочери деспота Сербского Георгия Бранковича, супруге султана Амурата II (1438-1448 г.), которая после смерти супруга своего удалилась в Яссово на реке Стримоле (ныне Вардар) в Македонии, недалеко от Афонской горы, где и скончалась, отказав значительные богатства в пользу Афонского монастыря Св. Павла, о чем свидетельствуют сохранившиеся в этом монастыре документы? Но в таком случае предание находится в прямом противоречии с историческим документом; предание приписывает переименование монастыря Тресковцем времени, позднейшему 1448 г., тогда как обитель уже называется Тресковецкою в приведенной выше хрисовуле Стефана Дечанского (1321-1333г.).)Здешние люди сжились с этими изустными преданиями темной старины, убаюкивавшими их в дни их бедного детства, утешавшими и подкреплявшими их в тяжелое время испытаний и гонений. Живя на классической почве, усеянной памятниками былого, здешний поселянин нашел в этих памятниках много пищи для воображения. Изустный рассказ, переходящий от отца к сыну, сделался насущною его потребностью. Нужно видеть как оживляется он, передавая этот рассказ, как в соприкосновении с героическою стариной необразованный язык его становится красноречив и силен. Самородный эпос льется, кажется, сам собою из его души, и облетая села и хаты, поддерживает дремлющие силы народа. Если бы не было этих преданий, можно было бы усомниться в его будущем; но, нет! Этому обширному кладбищу суждено еще стать поприщем жизни... [239]
Слушая эти рассказы, я не замечал, как бежало время. Давно уже наступила ночь.:.. и что за чудная, освежающая, ночь! Полная луна стояла высоко в небе, — нигде ни облачка.... ни один лист не шевелился на деревьях. Резко обозначались в небе темные профили древнего пятиглавого храма и монастырских стен и лиловые силуэты гор. Далекая равнина словно утопала в прозрачной синеве лунного света. Тишина была невозмутимая... Мы распростились. Какой сладкий сон последовал за этим полным впечатлениями днем!...
Рано был я пробужден колокольным звоном. Утро было свежее, росистое; солнце еще не вставало, а уж прилежный турок-игумен усердно звонил к заутрени. По окончании литургии мы приступили к подробному осмотру монастыря.
Двор, как я уже сказал, расположен на наклонной плоскости террасами, уступы которых иссечены в скале. Его окружают монастырские здания и службы, которых все окна и двери обращены внутрь двора на широкую галерею, Так что снаружи монастырь походит на крепость. Над воротами, четырехугольная небольшая колокольня, с тремя колоколами, осененная крестом. Посредине двора возвышается древний пятиглавый храм византийской архитектуры, совершенно схожий с некоторыми древними храмами, обращенными в мечети, которые случилось мне видеть в Солуне. Он сложен из мелких кирпичей, красиво расположенных рядами. Кровля и купола покрыты мелкою черепицею, совершенно почерневшею от времени, и местами поросшею мохом. В одном углу, на вделанной в стену мраморной плите, я прочел следующую надпись:
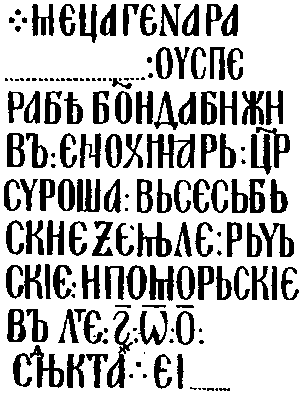
[240] что составляет 6870 г. от сотворения мира, по Р.X. 1290, соответствующий царствованию Стефана VI Милутина Уроша III. Снаружи вовсе нет стенной живописи; полукруглый выступ в восточной стене образует вместилище алтаря. Наружная дверь, ведущая в закрытую трапезу, чрезвычайно мала и низка; внутренность трапезы и храма врыта в землю на три ступени. Стены узкой и длинной трапезы покрыты живописью, по обыкновению, изображающею страшный суд и адские мучения. Из трапезы три двери ведут в храм. Средний главный храм крестообразный. Своды главного и малых куполов опираются на четыре тяжелые четырехугольные столба, покрытые сверху до низу стенною живописью, вероятно, возобновленною в позднейшее время. По сторонам главного храма два малые придела. Вся внутренность мрачна и темна; все три иконостаса сплошные; иконы на них чрезвычайно темные, вероятно весьма древней живописи. Пол выложен плитами; на одной из них, в средине главного храма, я еще мог разобрать следующую, почти стертую от времени, греческую надпись:
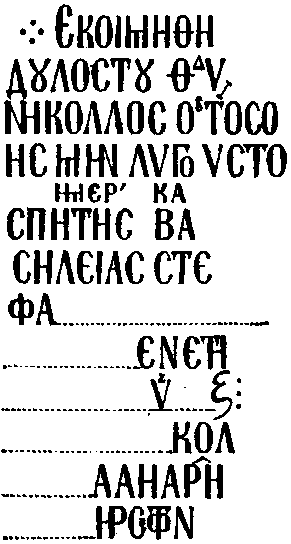
В нише, над аркою, отделяющею правый придел от главного храма, мне указали нависавшую al fresco, икону Богоматери, чрезвычайно чтимую. Не снимок ли это с [241] одной из афонских весьма древних икон? Я заключаю это из надписи, оканчивающейся следующим образом:
![]() то есть от
сотворения мира 5939, что соответствует 359 г. нашей
эры.
то есть от
сотворения мира 5939, что соответствует 359 г. нашей
эры.
Жертвенником в главном алтаре служит почти кубический гранитный камень, покрытый полинявшею шелковою одеждой. На лицевой стороне этого камня я прочел следующую греческую надпись, отчасти стертую и вероятно весьма древнюю:
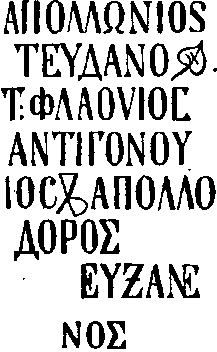
Ризница монастыря Пресвятой Богородицы заключает некоторые довольно ценные вещи, и сравнительно с другими монастырями здешней местности, может быть почитаема даже богатою. Почти все церковно-служебные книги русской печати из времен Петра Великого, но в них встречается большой недостаток, и священники жаловались мне, что у них нет даже необходимого требника.
Близь трапезы, в сыром и темном подвале, в который приходится спускаться чрез неимоверно-микроскопическую дверь, мы нашли сундук с древними рукописями. Когда мы открыли его, распространился такой сильный прелый запах, что мы еле могли выдержать и поспешили вытащить сундук на чистый воздух. Особенно замечательного ничего не оказалось; искатели древностей уже несколько раз посещали Тресковец и, говорят, вывезли множество книг; остались лишь несколько рукописных евангелий и книг богослужебных, до того перегнивших, что пергамен рвется при перелистывании. [242]
Осматривать в монастыре более было нечего. Мы отправились, в сопровождении многочисленной свиты на Златоверх, эту таинственную гору, которой имя так прославлено народными легендами. Мне хотелось посмотреть вблизи на эту остроконечную макушку, на которой, по словам предания, блистал когда-то, как второе солнце, ниман от Цареве. Действительно, посмотрев на эту гору, так причудливо созданную природой, становится понятно, что она должна была поразить неразвитое воображение поселянина и сделаться любимым предметом народной поэзии. Весь Златоверх, которого вершина возвышается слишком на 4.000 ф. над уровнем моря, как бы отделился от прочих гор и представляет огромную отдельную массу, до того изрезанную глубокими лесистыми ущельями, что она кажется как бы разодранною какою-то силой. Та же конусообразная часть горы, которая еще возвышается (по крайней мере на 800 фут.) над тем местом, где построен монастырь, так крута и обрывиста, что ее можно всего удачнее сравнить с колоссальною сахарною головой. Но она не представляет ничего цельного в своем строении; это громадные массы серого гранита, наваленные одна на другую и держащиеся в силу каких-то еще неведомых законов равновесия. Не прикасающиеся одна к другой громадные массы образуют множество узких, глубоких, иногда сквозных пещер, которые, как длинные темные коридоры, извиваются во внутренности горы. Кое-где, в расселинах гранита, налипло немного зелени и выросли одинокие странных форм деревья, висящие над бездной. Глядя на эту странную игру природы, на это диковинное здание, дивишься, что оно стоит неподвижно, и как оно не рассыплется. Самая макушка увенчивается огромным плоским камнем, опирающимся только двумя точками, и висящим над пропастью будто дощатая перекладина. Тут-то нам предстояло проходить.
Сначала, выйдя за ворота монастырские и обогнув весь конус слева, мы стали взбираться поросшею густым кустарником его покатостью, до того крутою, что приходилось на каждом шагу останавливаться, чтобы перевести дух, и хвататься за кусты, чтобы не оборваться. Таким образом достигли мы до маленькой площадки, которой поверхность, в вечной тени нависшего над ней утеса, поросла свежею [243] зеленою травой. Здесь нам предложили посетить жилище постника (пустынника) — находящуюся вблизи пещеру. Вот истинная пустыня, совершенно отрезанная от живого мира. Отверстие пещеры находится на совершенно отвесной покатости горы, и окружено со всех сторон нависшими скалами. Чтобы попасть в пещеру, приходится карабкаться на одну из скал, висящую над нею, и отсюда, с помощью тут же растущего в расселине гибкого дерева, перекачнуться над пропастью на узкий природный гранитный карниз, служащий как бы порогом при самом входе; впрочем, чрез внутренность горы, чрез трещины между скалами, существует другой проход, который, вероятно, и служил пустыннику, но тот проход гораздо утомительнее и длиннее. Внутренность пещеры темна, сыра и угрюма, — но что за бесподобный вид открывается в ее узкое отверстие будто в окно! Предание не сохранило имени отшельника; здесь, в этом сыром убежище, провел он созерцательную жизнь свою; здесь он и кончил ее. В темном углубленном углу пещеры еле виднеется гробница; никакой надписи не видно на ее холодной плите. Тут же стоит каменный стол, с совершенно почерневшею от времени и сырости иконой, перед которою иногда теплится лампада, зажигаемая усердием богомольцев.
Из пещеры мы, опять тем же путем и с теми же гимнастическими усилиями, выбрались на площадку. Но отсюда продолжать восхождение в сапогах оказалось невозможным; делать нечего, пришлось разуться и пуститься в дальнейший путь уже босиком. Далее боролись мы с препятствиями и усталостью, то ползя на четвереньках в узких коридорах между скал, то карабкаясь по голым крутизнам гранита; наконец, после перехода через длинную узкую расселину, мы добрались до такого места, что я пришел в совершенное недоумение, как продолжать путь, и вчерашнее восхождение на Марка Кралевича казалось мне прогулкою по гладким аллеям Летнего Сада. Перед нами была решительно голая гранитная стена, гладкая как лед, и приходилось идти по поднимающейся спиралью еле приметной трещине, до того узкой, что ступня едва помещалась на ней, так что надо было осторожно переносить одну ногу за другою; слева была отвесная стена, справа бездна, где на голом граните до [244] самого низу, не до монастыря, а до равнины, ни одного кустика, за который можно было бы уцепиться в случае падения. Этот опасный переход идет сажени на три длины. Признаюсь, на половине этого перехода, голова у меня закружилась, в глазах позеленело, и я сам не помню, как добрался до маленького пространства, уставленного массою взъерошенных остроконечных скал, образовавших из себя как бы естественные перила. Отсюда, до макушки, где находится широкая каменная платформа, так странно помещенная природой на остроконечной вершине, что она перекачивается под тяжестью постороннего тела, оставалось всего сажени две в вышину. Чтобы добраться туда, надо было с узкого остроконечного утеса перескочить через глубокую щель на возвышающуюся аршинами двумя выше другую совершенно отвесную скалу, и оттуда уже, по невысокой естественной лестнице, образуемой скалами, взойти на колеблющуюся платформу. Признаюсь, я не решился на последний шаг.
Надо заметить, что восхождение на Златоверх почитается богомольным путешествием, и жители монастыря, сопровождая богомольцев, до того привыкли карабкаться по скалам, что им совершенно ни по чем соединенные с этим восхождением опасности. Когда я спрашивал потом игумена, зачем он не устроит местами каких-нибудь перил или лестницы, чтобы сделать восхождение более удобным, то он отвечал мне, что это дело лишнее, потому что сам Бог хранит путешественников, и еще не было примера, чтобы кто-нибудь сорвался. Убеждение в богоугодном смысле восхождения на Златоверх сильно укоренено в окрестных жителях. Есть даже обычай качать для счастия детей на зыблющемся камне, и женщины всходят сюда с грудными младенцами на руках. Большею частью, по достижении вершины, когда приходится предпринимать обратное путешествие, с ними делается дурно, и в этом случае их обыкновенно привязывают к длинной веревке, и спускают как тюки в пароходный трюм.
А. Хитрово
Текст воспроизведен по изданию: Поездка на Прилепскую ярмарку и в монастыри Св. Архангел и Тресковец (Из путевых записок) // Русский вестник № 3. 1863
© текст - Хитрово А. 1863© сетевая версия - Thietmar. 2010
© OCR - Анисимов М. Ю. 2010
© дизайн - Войтехович А. 2001
© Русский вестник. 1863
